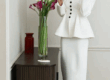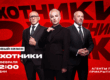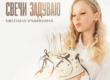Антон Долин, Андрей Звягинцев, Людмила Улицкая, Линор Горалик, Андрей Макаревич, Дмитрий Глуховский, Ася Казанцева, Галина Юзефович, Юрий Слезкин, Максим Ильяхов — что может объединять этих людей в одной книге? Все они творят нашу сегодняшнюю историю, то, что происходит прямо сейчас. Они чувствуют, как меняется мир вокруг нас и готовы поговорить о том, в каком обществе мы будем жить завтра. Неслучайно дизайнером книги стал самый востребованный стрит-арт художник России POKRAS LAMPAS.
Темы, которые вы встретите в книге, звучат в подкастах, обсуждаются с друзьями, поются в песнях и постятся в Твиттере. Это больше, чем просто книга, — это зеркало нашей реальности.
О внутрисемейном процессе передачи памяти.
У меня в спальне вся стена в фотографиях моих бабушек и дедушек, даже сохранились снимки двух прадедушек. Фото моего деда Якова представлено в двух вариантах: одна фотография, где он в военной форме, поскольку он участвовал в Первой мировой войне, и вторая — всем известный формат, профиль и фас. Это тюремная фотография. Так что я детям постоянно и с очень большой охотой рассказываю про своих стариков. Тем более что среди тех людей, кто позади меня, было 2-3 замечательных человека. И даже мой роман «Лестница Якова» написан с этой «мотивацией» — я не хочу, чтобы память умирала. Когда-то, году в 1969-м, я, еще биолог, попала в Среднюю Азию, это была экспедиционная поездка. В какой-то деревне, в ауле, разговорилась с местным стариком, школьным учителем, полагаю, он был из семьи муллы или что-то в этом духе. Он мне говорит: «Что вы за люди, русские? Вы даже имен своих дедов не знаете. Вот у нас, если человек не знает семи поколений позади себя, то это просто безродный бродяга». Тогда его слова произвели на меня огромное впечатление. Азиатские люди не пережили того, что пережила центральная Россия — этих массовых посадок, когда нельзя было говорить о дедушке-бабушке, их, считай, просто не было. И память об этих людях стала всплывать после 1990-х годов. И поэтому «разрушенная память» делает нас отчасти инвалидами.
«Пишите семейную историю!»
Бесконечное количество людей присылают мне свои книги, воспоминания, стихи. Я всегда и всем говорю: «Пишите, пишите!» Потому что писать — это большая благодать, в особенности — писать семейную историю. Как бывший генетик, я должна вам сказать, что половина меня — мама, половина — папа. Бабушки и дедушки в определенном количестве тоже присутствуют. Каждый из людей — текст. Сегодня он практически расшифрован, каждого из нас можно записать в виде последовательности генов и даже нуклеотидов. А ощущение «Это у меня — от папы, это — от мамы, а вот это — от дедушки» мне чрезвычайно важно, интересно и приятно. И я думаю, что мои дети это достаточно хорошо ощущают. И всем того желаю: безумно важно знать, откуда мы. Сегодняшний настойчивый патриотизм, переведенный в частную зону, в область твоей личной жизни, твоей семьи, дома, дерева, которое возле твоего дома, твоей школьной учительницы, твоего двора, — я считаю, это и есть любовь к родине. Когда физически ощущаешь, что ты весь «построен» из атомов и молекул того места, где ты живешь. Ты из этой земли произрастаешь! Мы едим этот огурец, который вырос на этой земле, и он в нас живет. Так что с памятью у меня такие отношения, я бы даже сказала,
что углубляющиеся с годами, потому что эта тема меня совершенно не перестает занимать и волновать, я с этим постоянно не то что работаю — живу.
О языке нового века.
Буквально неделю назад я получила на рецензию две работы и отказалась их рецензировать. Потому что один текст показался мне очень слабым, а второй — очень сложным. Оказалось, что сегодняшнюю жизнь 18-летнего человека я плохо понимаю. Мы все — и мы, и они — сейчас находимся на таком цивилизационном рубеже, когда меняется психология, привычки, все установки. Нет вещей, которые сегодня не переживали бы колоссального понятийного кризиса. Прежде чем говорить о чем бы то ни было серьезном, мы с вами должны определить — что мы понимаем под этим. Что мы понимаем под словом «семья», «любовь», «творчество». Слова надо заново определять. Поэтому эти совсем новые авторы мне не всегда бывают понятны.
Мне не всегда бывает понятен их язык, потому что он тоже очень сильно меняется. Я совершенно не настаиваю на том, чтобы нам вернуться к языку Пушкина — это невозможно. Но себя я чувствую человеком XX века. Сегодняшняя молодежь говорит и пишет другим языком. Поэтому то, что редактор десять лет тому назад исправил бы как невозможное, сегодня оказывается уже возможным, что нельзя не учитывать. Поэтому я очень осторожно отношусь к своему собственному мнению. Скажем, в этом смысле мне стихи понятнее, потому что у них есть та степень языковой условности, которой нет у прозы. Проза должна быть понятнее. Поэзия позволяет передавать какие-то более сложные, более интуитивно чувственные вещи. Поэтому, как ни смешно, сегодняшняя поэзия мне ближе сегодняшней прозы.
Об общественных изменениях сегодня.
С одной стороны, меня очень радуют некоторые процессы, которые я наблюдаю. В России с незапамятных времен не было такого волонтерского и благотворительного движения, как сейчас. Последние 10 лет среди моих подруг нет никого, кто не ходил бы куда-то в больницу, не давал бы деньги на благотворительные нужды и лично не участвовал бы в этом общественном процессе. И это произошло за последние десять лет, раньше такого не было.
Это то, что хорошо. А плохо — мои отношения с властью, не с данной конкретной властью, а вообще. Государство — это служебный механизм для общества. Для этого оно придумано, простите, Платоном. Потому что государство — механизм управления, который нужен для управления нашими налогами, распределения их по нуждам, это его прямая обязанность. Смысл государства как инструмента — обслуживать общество. Нельзя обслуживать общество, если ты не хочешь его слышать. Поэтому у нас власть считает, что оппозиционеры — это плохо. Оппозиционеры — это очень хорошо! Потому что они показывают государству, где недоработано. Власть должна благодарить оппозицию за то, что она показывает ее недоработки, показывает, куда направить внимание, деньги, ресурсы. В этом и есть моя установка и мое неприятие власти, которая постоянно хочет обслуживать себя, а не общество. И это разрастание государства, его превращение в почти раковую опухоль: количество бюрократии, которое сейчас в мире образовалось, несоизмеримо больше количества людей, которые производят продукт. И мне кажется вся эта ситуация каким-то порочным обстоятельством сегодняшней жизни, не только в России, а всюду! В этом, по-видимому, лежит корень некоторого «недопонимания» власти. Я не борюсь с властью, кто я такая, чтобы с ней бороться? Но, если бы у меня спросили, я бы сказала, где надо доработать. Причем я говорю совершенно не про то, что ее надо менять. Будет следующая, точно такая же. У нас такая российская традиция, когда власть и государство оказываются избыточными. С моей точки зрения,
его должно быть поменьше. Общество в состоянии решать многие задачи самостоятельно. Волонтерские и благотворительные движения, о которых я говорила, это то, что реально решает задачи, которые могло бы решать государство.
Про отношение к высоким постам.
Однажды моя подруга сказала: «Люсь, а если бы тебя назначили министром образования, ты бы согласилась?» Я засмеялась и сказала: «Нет, не согласилась бы, потому что ты позвонишь мне и попросишь устроить свою дочку в какую-нибудь школу, и я это сделаю. Такие люди не должны быть начальниками».
Про ожидание счастья после войны и советское время.
Я достаточно хорошо помню это послевоенное время.
Я не голодала. Но бедность была тотальной и всеобщей. До сих пор не могу выбросить продукты с тарелки, доедаю до конца. Надо есть поменьше, но выбросить продукты невозможно. Сегодня везде море объедков. Я все время испытываю дикую неловкость от этого, так нельзя! Я всю жизнь ходила в обносках, которые отдавали, перешивали несколько раз. Но при этом настроение у всех было такое: «Мы победили, завтра будет счастье!», 1945 год. До смерти Сталина еще восемь лет. В 1947 году прошли большие репрессии. Люди, вернувшиеся из плена, все отправлялись в лагеря. Люди, эшелонами возвращавшиеся на родину, — после революции во Франции было много русских, они прожили жизнь в эмиграции, любя Россию и храня о ней память, — немного успели здесь пожить, большинство сразу отправилось в Воркуту. Я помню таких людей, знаю их потомков. И это ощущение, что завтра, после войны, «начнется счастье», оказалось обманчиво. Но тем не менее его все ждали. Настроение у нас было духоподъемное. Сейчас, когда все живут достаточно обеспеченно, выбросить еду — в порядке вещей, это никого не волнует, выбросили и выбросили, а между тем настроение очень плохое. Потому что люди ожидают от завтра не счастья, а чего-то тревожного, катастрофического. Уже где-то идет война, и поблизости, и вокруг.
Я не отношусь к тем людям, которые считают, что в советское время жилось лучше. У них есть своя аргументация. Думаю, что их надо выслушать и подумать — что же именно им так нравилось. Мне не нравилось. Но это время моей молодости. 1960–70-е годы, 1980-е в меньшей степени — это были годы, когда мы выработали потрясающие отношения между людьми. Потому что ничего не было — не хватало «трех рублей до зарплаты», колбасы, нужны ботинки ребенку, билеты куда-то. И за счет того, что все было так сложно, у нас сложились потрясающие отношения, которые до сих пор сохраняются. Мы выработали фантастический социум, личный, то, что мы называем «московские кухни», — это Окуджава и то, чем мы делились. Уровень доверия, взаимопомощи и взаимозависимости был очень большой. Поэтому я не могу скучать, это все у меня осталось. К сожалению, очень многие люди того времени ушли.
Я не знаю, есть ли такие отношения между людьми сегодня. Сейчас я вижу другое: стоит группа молодежи на «пятачке», мы с подругой идем, она меня пихает: «Смотри, они общаются». У каждого из молодых людей в руках телефон, и «общаются» они между собой, друг другу пишут. Конечно, это обезличенное общение, друзья из «Фейсбука», люди, которые сходятся по компьютеру. Это настолько другое, что я плохо воспринимаю. Но тут проблема рубежа, о котором говорила: я осталась в XX веке,
а XXI век несется с такой скоростью, что я не успеваю за ним.
Мой пятилетний внук какие-то вещи на компьютере делает
лучше меня. Я этим очень недовольна.
Про выбор книг.
Знаете, у меня на этот счет существует экологическая теория. Люди сейчас немного «сдвинулись» на экологии. Поэтому, покупая продукты, смотрят калорийность, добавки и прочее. Целый лист того, что присутствовать не должно и что должно быть. Если с таким же вниманием люди относились бы к книгам, к тому, что они кладут себе в голову, то мир был бы чуточку лучше. В молодые годы я дочитывала книжку от начала и до конца, сейчас перестала это делать, потому что если понимаю, что мне «не очень», то уже не даю автору шансов исправиться к концу, закрываю и откладываю. Потому что есть особые «драгоценности». Я недавно перечитала всем известную вещь — «Смерть Ивана Ильича» Толстого.
Не первый раз ее читала — и это потрясающе. Сколько я в прошлом прочтении не увидела! Есть такие «безразмерные» вещи.
И лучше еще раз перечитать «Капитанскую дочку», чем делать какие-то сомнительные пробы. В мире по данным статистики читают книжки 7% людей. Из этих 7% людей — это уже мое построение — правильные книжки читают тоже 7% людей. Поэтому я страшно радуюсь, когда я вижу моих читателей. И должна вам сказать, что мы с вами — это те самые 7% от 7%, которые думают о том, что они «кладут» себе в голову.
Самая переоцененная книга.
Очень сложный вопрос, надо хорошо подумать. Думаю, это «Мастер и Маргарита». Не потому, что я не люблю этот роман, он замечательный, прекрасно сделан. Но, как мне кажется, слишком переоценен в мире.
Самая недооцененная книга.
Сейчас, сейчас… Не Платонов, кто-то из 1930-х годов… Борис Лапин! Дело даже не в прозе, которую он писал, и не в поэзии.
А, скорее, в его потрясающей личности. Он погиб на фронте, но мыслил, как сегодняшний человек. Я даже не понимаю, как так могло получиться…
Фото: Persona Stars
20 марта 2021